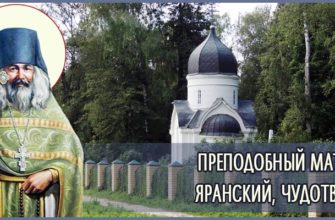К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Надежда Мазий из поселка Маромица написала повесть о своей бабушке, Юлии Алексеевне Оноховой, труженице тыла, вдове погибшего участника Великой Отечественной войны.
«Присоля, хлебнёшь. Посоля, всё съестся».
Пословица

Шёл второй год войны. Урожай в этом году выдался небывалый. От капустных гряд, что у речки, потянулись в деревню телеги, груженные большущими упругими кочанами. Чтобы унять голод, ребятишки с утра до вечера хрустели морковкой и капустными кочерыжками. Белых грибов насушили вдосталь, а так хотелось засолить рыжичков и груздей, чтобы зимой их с горячей картошечкой, да без соли долго не нахранишь, а соли не достать! Бабы втихаря кололи и разбирали лизунцы у колхозных коров. Еда казалась пустой, обваренная капуста замылела. Пресный, безвкусный хлеб не лез в рот. Чего в нём только не было. С лета впрок сушили дудошник, кислицу, ботву голландки, капустные листья. В каждом доме была ручная мельница, на которой всё перемалывали и с мукой смешивали, да в придачу опилок в тесто добавляли. От такого хлеба дети маялись животами.
Граша Угольская получила письмо от племянницы из Лопасни, что под Москвой. Та писала, что голодует, мучается водянкой, шатаются зубы. Что хлеба по карточкам даётся по 600 грамм на работающего и 200 грамм на иждивенца, иногда хлеб заменяют пряниками и печеньем. А в деревне выдавали по три килограмма зерна на шесть едоков на неделю, могли и льняным семенем заменить. Семя замешивали на простокваше и пекли лепёшки, но настоящей сытости они не давали. Когда городили огороды, женщины собирались у костра обедать, где нередко между ними вспыхивали ссоры. Припоминались былые обиды, усугублённые тяготами войны. И тогда Лиза, по прозвищу Вербованная, запевала:
Надоели нам коровы,
Надоели нам быки.
Ещё пуще надоели
Постряпушки без муки!
Не ругайтесь, бабоньки,
Надоело слушать,
Пойдёмте лучше по домам,
Будем семя кушать!
Слухом земля полнится. От людей Юлька узнала, что с Камешника семейная пара ездили к родственникам в Сольвычегодск за солью. И тогда её занутрило. Загорелась она мыслью за солью идти. Пошла к бригадиру за подорожной. А бригадир давай браниться. Шутка ли – зимой пешком в такую даль. Грозился, что за прогулы и под суд можно угодить, а чтобы лошадь взять – и думать было нечего. Но Юлька упросила товарок подменить её. «С ума ты сошла, что ли? Война! Под суд захотела?» – сказал бригадир. «Всё равно пойду», – ответила Юлька. Разузнала, что и как, и начала готовиться. Сначала сдала по продналогу масло, яйца и шерсть. Тогда вся жизнь была под лозунгом: «Всё для фронта! Всё для победы!». А уж потом стала масло копить, чтобы на соль выменять. Пришлось ради большого дела у родимых и без того голодных детей молоко забирать.
Так уж водится у баб – будь то встреча или расставание, а слёзы близко. Мать отговаривала Юльку, плакала: «Куда ты, девка-матушка, собралась? Сгинешь! Деточек пожалей!». Юлька молчала. Прямая, спокойная, она не хотела пугать ребятишек. А те облепили мать и непонимающе вертели взъерошенными головками. И лишь дрожащие узкие ладони да судорожное сглатывание выдавали её страх перед дальней дорогой.
Поднялась Юлька в четыре часа утра, на прощание поцеловала детей, разоспавшихся, вкусно пахнущих печкой, теплом, всем уютом деревенской избы. И с лёгким сердцем подошла под благословение матери.
За деревней у леса заметила огонёк цигарки – это бригадир вышел проводить, напутствовал: «Счастливого тебе пути, Юлия Алексеевна, смотри, на железке то осторожнее с деньгами, получше прячь». То ли от того, что обратился он по-доброму, назвал по имени-отчеству, сразу родились в ней радость и грусть по оставленному дому. Однако вздохнув, зашагала вперёд. И вот уже позади осталось Симкино. Припасённые с вечера факелы не зажигала. Ярко светила полная луна. Передохнуть решила на Прислоне, зашла к знакомой бабушке Василисе. Та ещё недавно встала, возилась у печи, но гостьюшке была рада. Быстро наставила самовар, вынесла по варёной картошине и сказала: «Пей-ка, девка, напейся впрок. Три дня тебе в пути быть в первую дорогу, да и там не к родне попадёшь». Навар был густой, настоен на мяте, отдавал смородиной и зверобоем, не было в нём только заварки.
Юлька вышла на дорогу, легко пошла к лесу, но вдруг небо потемнело, повалил снег хлопьями, ветер задул с разных сторон. В мгновенье пропали из виду лес, небо, дорога с чётким следом от саней и кучками конской шишки. Ветром задирало полы ветхой станушки, незнамо было, куда идти. Она села прямо в снег, чтобы переждать пургу. Чуть погодя двинулась дальше.
Юлька шла по зимней дороге и всё повторяла про себя: «Суженый приедет, башмачки привезёт, заревёт, да повезёт». Из-за строптивого Юлькиного характера сваты обходили их двор стороной. Бабы за глаза называли её задачей. Гордая, решительная, сильная духом Юлька считала себя равной мужику, а в некоторых житейских вопросах и поболе. Припомнилось сватовство. Мать с вечера квашню поставила. А Юлька всю ночь провертелась с бока на бок. Уже были уконопачены на зиму окна и между рам загорелись огоньками кисти рябины. Накрахмаленные марлевые занавески, подкрашенные синькой, застыли волнами. До блеска были начищены толчёным кирпичом самовар, ложки, вилки с костяными колодочками. Янтарным блеском засветилась ендова для пива. Сарафан пестрядинный самый лучший и кофту с плетушками Юлька с вечера приготовила. Нагладила атласные ленты в косы о горячущий самовар. Перебегая от одного окна к другому, Юлька то и дело гляделась в его зеркальный бок. Она всё гадала, на чём же приедут сваты, на санях или кошевнях. Сваты пришли пешком. Увидев Никиту, Юлька вся так и вспыхнула от радости, одновременно досадуя на бедность жениха. Стол был набран: румяные колобушки, пышущие жаром картовные шаньги, капустники, преженники на поденье горой высились на устланном скатертью столе. Той осенью на болотах было много журавлихи и крупная такая. Сейчас она млела на двух решётчатых сладких пирогах. Овсяный кисель, яичница шкворчала и пузырилась. Посреди стола, на почётном месте, стоял рыбный пирог из щуки, собственноручно загнутый невестой. «Слязай в голбец, Юлюшка, неси грузди, да мочёной брусники не забудь. Да не бегай ты простоволосая, окушкайся платком, бассяя будешь», – кричала мать. «Проходите в сутки. Усаживайтесь», – встречала сватов Анна.
«Здорово живёте, здравствуйте! У вас товар, у нас – купец, у вас девка, у нас – молодец. Есть ли у вас спицы да полицы, чтобы вешать шапки да класть рукавицы?» – задорно, наперебой выкрикивали сваты. Застолье шло своим чередом. В голубой рубахе, черноволосый, чубатый Никита сидел по левую руку от дяди Тимофея. А справа сидела дородная Павла. Гостей обносили домашним хмельным пивом. За столом шёл неспешный разговор о житейском, поднимались лафитники, наполненные прозрачным, как слеза, первачом. А жених и невеста волновались, не ели, а только неотрывно глядели друг на друга. Прощаясь, они пожали руки. Жениха забрали на всю зиму на лесозаготовки, так что свадьбу сыграли только по весне.
Утром дорога оживилась, стали попадаться сани-розвальни, кошёвки, в которых сидели крупные мужики в пыжиковых шапках, выбритые, в белых бурках на полных ногах. Вскоре нагнала её попутчица, пошли вместе, перебрасываясь на ходу деревенскими новостями. Шли целый день, глубоким вечером были на станции Пинюг. Поезд набирал ход, разгонялся, совсем останавливался. С клубами холодного воздуха заходили и выходили люди, усаживались, доставали нехитрую еду: хлеб, варёную картошку, яйца, пили кипяток. Кто-то наигрывал на губной гармошке «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой…». Сидящая наискосок высокая, сухопарая молодка делилась с низенькой старушкой своими горестями: «Ей, свекровке, всё не так! Не так масло бью, не так овцу остригла, всё ко мне придирается». Под это монотонное бормотание Юлька заснула. Проснулась на подъезде к Котласу. Станция стояла тёмная, ни огонька, ни звука. Перед выходом проверяли документы. Касса была закрыта, в вокзале тепло. Люди спали на лавках, на чемоданах и вещмешках, а то и просто на деревянном затоптанном полу. Юлька хотела было притиснуться к вольготно разлёгшейся тётке, но маленькая девочка предупредила: «Осторожно, у неё вши, много вшей!». А спать хотелось. Приткнулась к остывающей дверке печи и забылась тревожным сном. Вокзал закрыли на уборку, тут и услышала плохую новость, что поезд на Сольвычегодск будет только через три дня. Делать нечего, надо идти пешком!
Спустя несколько часов подходила Юлька к большому селу. Множество домов теснились по ту и эту сторону широкой реки. Была и церковь, закрытая и занесённая снегом. Пройдя до конца улицы, в тупике увидела большой пятистенок. Припомнилась пословица: «Хлеб свой, дак хоть к попу на постой!». Взойдя на крыльцо, решительно постучала в дверь. Открыл высокий крепкий старик лет семидесяти. Узнав, в чём дело, обрадовался: «У нас сёдни и коровы не доенные стоят. Вот Бог и послал нам помощницу. А старуха-то моя болеет. Вымыть бы её в бане. Рассчитаемся, как положено». Юлька налила тёплой воды в подойник, и хозяин с фонарём проводил её в хлев. В хлеву было тепло. Юлька быстро выдоила старую слабенькую корову, а вот молодая не хотела отдавать молоко, косилась чёрным, влажным глазом, лягалась. Кроме коров было два телёнка, овцы и рыжий, обросший густой щетиной поросёнок. Процедив молоко, вымыла подойник и вошла в кухню. Рядом с входной дверью стоял узкий длинный курешник, куры весело клевали толчёную картошку, было их не меньше двадцати. Старики пригласили за стол, бабка долго охала, умащиваясь на стуле, жаловалась на болезни, которые изводят её, горемычную. Дед тем временем принёс квашеной капусты, достал из печи чугунок с супом, рисовую кашу. Ели долго и обстоятельно.
За едой старики расспросили Юльку о том, кто она такая и куда идёт. Посовещавшись, упросили остаться на два дня, чтобы помыть полы и вымыть их в бане. Разомлев от обильной еды, Юлька долго не могла уснуть. На печи кряхтела и стонала старуха, а старик, умаявшись, храпел громко, протяжно. Утром Юлька встала, как обычно, в пять часов, ушла в прируб, намыла картошки, поставила варить, напоила тёплым пойлом коров, вынесла поросёнку и овцам, надавала сена. Старик встал, когда женщина возвращалась уже с полным подойником и, улыбнувшись, сказал: «Ай, и ловка ты управляться, живой рукой всё изладила». Юлька раз двадцать бегала к колодцу за водой, жарко вытопив баню, повела туда старуху. Бабка с трудом разделась, и Юльке открылась её болезнь. Весь живот и бёдра были покрыты синими, вздувшимися чирьями, в воздухе запахло гноем. С трудом помогла бабке влезть на полок, та лежала ни рукой, ни ногой. После старика пришла очередь Юльки. Женщина распустила свои длинные светлые волосы, присела на лавку и задумалась. Паучок легко скользнул по руке и взвился к тёмному, закопчённому потолку. «Беги, беги, дорогой, не отрывайся от своих», – твердила она и ощущала себя таким вот паучком, оторванным от родных детей, от старушки матери и от мужа, воюющего где-то там, далеко. Она наизусть помнила редкие его письма с поклонами и приветами, советами по хозяйству и наказом хранить детей до его возвращения, а вернуться обещал с победой!
Утром Юлька побежала за фельдшерицей. Та пришла к обеду, когда старуха забылась коротким тяжёлым сном. Юльке понравилась и сама медичка, её скуластое лицо, узкие глаза, и то, как уверенно она провела операцию. Юлька держала таз и видела, как режет скальпель вздувшееся тело, как уверенно пинцет вытаскивает корни и ядра, как шипит и пузырится перекись. Бабка орала дурниной! К вечеру старушке полегчало. И когда Юлька выдоила коров, войдя, увидела зажженными три лампы. Пятистенок сиял всеми своими окнами. Сундуки были раскрыты, а их содержимое разложено на кроватях, спинках стульев и даже на полу. Такого богатства Юлька никогда не видывала. Яркие пёстрые ситцы, блестящие голубые и зелёные сатины, красные и белые кумачи, бархатные скатерти и шторы, полосы вельветов синего, коричневого, красного цветов, панбархаты прозрачные с выдавленными на них цветочками, шёлковые в горошек платья с рюшами, туфли-лодочки, пуховые шали, свёртки сукна, жёлтые атласы, цветные фланели и ещё много чего. Юлька присела и восхищённо смотрела на это великолепие, так небрежно раскинутое. Речь держала хозяйка: «Оставайся, дочка, постепенно и детей своих сюда перевезёшь. Богаты мы, а родных никого не осталось. Сыновья наши на войне полегли. Кто нас докормит до смерти? Старик-от мой всю жизнь был на доходном ремесле, дёготь берёзовый добывал, а сыны ему подсобляли». Голова старушки тряслась, крупные слёзы бежали через всё лицо, старик молчал, кряхтел.
Юлька, молча, сложила в сундуки все богатства, невольно погладив голубые сатины, и сказала, как отрубила: «Не могу. Жизнь у вас, конечно, сытая и богатая, только родная деревня, бедная и голодная ждёт меня, и дети, и мама, а война вот-вот кончится, муж вернётся, заживём по-новому». Утром вышла из ворот, попрощавшись со стариками, которые отблагодарили её по-царски. В вещевом мешке лежали два отреза сатина, хлеб, сало, а на ногах новые катанки.
Надежда Мазий, п. Маромица.
Продолжение следует.
Фоторепродукция картины А.С. Федосеенко “Солдатская вдова” (1963 г.).